РОССИЯ
21.07.2025


Артём Бузинный
Магистр гуманитарных наук
ПРИДЁТ ПОРЯДОК НАВЕДЁТ
Чего ждать от «Русской общины»?

-
Участники дискуссии:
414 -
Последняя реплика:
больше месяца назад
В появлении «Русской общины» нетрудно увидеть определённый симптом. Это звоночек, сигнализирующий, что государство не справляется с одной из своих главных функций — обеспечение и защита прав и свобод своих граждан. Отдельный вопрос: почему государство не справляется? У него не хватает возможностей или нет желания? Но, так или иначе, а факт налицо. Ну, а возникающая пустота неизбежно заполняется другими силами.
Недостаток государственной активности обществу приходится как-то компенсировать, в том числе и своей, самого общества, самоорганизацией. Если государство не защищает граждан, гражданам приходится делать это самим. Уж сколько либералы ругали русских за «неспособность к самоорганизации», и вот русские такую способность вроде бы проявляют. Казалось бы, вот оно — вожделенное «гражданское общество», о необходимости которого столько говорила либеральная общественность. Казалось бы, надо радоваться. Но общественность опять недовольна. Телеканал «Дождь» привычно ноет про «русский нацизм».
Что же вызвало раздражение либералов? Может быть само слово «община»?
И правда, в начале ХХ века сохранявшийся тогда в России традиционный общинный уклад вся «прогрессивная» общественность дружно ругала и проклинала, как якобы главную причину «отсталости» русского крестьянства и его «рабской психологии». В этом были едины все тогдашние западники: и правые консерваторы-столыпинцы, и левые марксисты-меньшевики, и либералы-кадеты. Кумир тогдашних и сегодняшних западников, знаменитый немецкий социолог Макс Вебер называл «отсталое», по его мнению, мировоззрение русского крестьянства «архаическим аграрным коммунизмом».
При всём уважении к Максу Веберу, как светилу мировой науки, слово «архаический» он употребляет здесь отнюдь не в качестве научного термина: это просто бранный публицистический ярлык с русофобским подтекстом, и не более того. Ничего «архаического» в русской аграрной общине начала ХХ века не было.
Как доказано многочисленными исследованиями научной школы знаменитого советского историка Игоря Фроянова, основой жизненного уклада наших предков уже в эпоху Древней Руси были весьма развитые формы общинности, по аналогии с Древней Грецией названные И. Фрояновым «древнерусским полисом». Иначе этот древнерусский уклад Фроянов называл «общинность без первобытности», то есть без той самой «архаики». То есть, уже тысячу лет назад общинный уклад русских людей имел настолько развитые формы, что если в нём и сохранялись какие-то атавизмы архаики, их уже и тогда было крайне мало.
Тем более глупо было обзывать «архаическим» мировоззрение крестьян начала ХХ века. Значит дело здесь не в «архаике». Либералу Веберу и его адептам в психологии русского крестьянства не нравился именно коммунизм, а «архаический» они сюда приплели для красного словца.
И в этой неприязни к общинной психологии русского народа правые консерваторы и церковники были едины с либералами. Митрополит Филарет, например, возмущался тем, что «общественная» (читай, социалистическая) собственность служит «опорой раскола» (старообрядчества), скрываясь «под видом частной»:
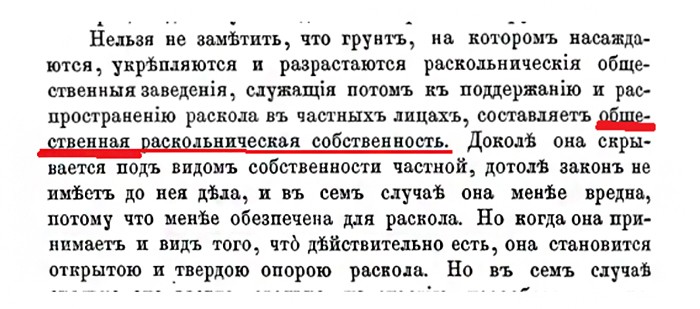
Мысли и предположения митрополита Филарета о средствах по уменьшению расколов. 1835 год // Собрание мнений и отзывов Филарета, митрополита Московского и Коломенского, по учебным и церковно-государственным вопросам, издаваемое под редакцией преосвященного Саввы, архиепископа Тверского и Кашинского. Т. 2. СПб., 1885. С.366.
Священник РПЦ Беллюстин, посетивший ремесленную артель в селе Тверской губернии, возмущался царившими там социалистическими порядками: «Тут нет ничего похожего на обыкновенные отношения между хозяином и его работником; речью заправляют, ничем и никем не стесняясь, наиболее начитанные, будь это хоть последние бедняки из целой артели; они же вершат и поднятый вопрос» Беллюстин И. Ещё о движениях в расколе // Русский вестник. 1865. — Т. 57. — С. 762.
Царский чиновник, правый консерватор и монархист Пётр Дурново считал главной опасностью для европеизированной элиты ту же социалистическую психологию русского народа: «Особенно благоприятную почву для социальных потрясений представляет, конечно, Россия, где народные массы, несомненно, исповедуют принципы бессознательного социализма… Крестьянин мечтает о даровом наделении его чужою землею, рабочий — о передаче ему всего капитала и прибылей фабриканта, и дальше этого их вожделения не идут. И стоит только широко кинуть эти лозунги в население, стоит только правительственной власти безвозбранно допустить агитацию в этом направлении, — Россия, несомненно, будет ввергнута в анархию, пережитую ею в приснопамятный период смуты 1905 — 1906 годов».
Однако и «коммунизм» здесь тоже упомянут, как идеологический ярлык, скорее уводящий от сути явления, чем проясняющий его. Первая ассоциация, возникающая при слове «коммунизм», это доктрина Маркса. Но марксисты в начале ХХ века относились к русской общине не менее негативно, чем либералы и правые. Этот негатив идёт ещё от дискуссий, которые вёл Маркс с Бакуниным, а потом и с русскими народниками. Маркс в довольно грубой форме высмеивал надежды Бакунина и народников, на русскую общину, как «мост к социализму». По Марксу любые формы общинности это, всего лишь, «продолжение животных форм общности». Социальный прогресс, по Марксу, возможен только через разрушение этих «полуживотных» атавизмов. То есть переход от первобытного коммунизма к рабству по Марксу был прогрессивным шагом от «полуживотного прозябания» к цивилизованному обществу.
И Маркс здесь не был оригинален. Его презрение к общинности происходит не из идеологии марксизма, а из обычной для просвещённого европейца русофобии. За несколько десятилетий до Маркса примерно то же самое о России писал маркиз Астольф де Кюстин: «Я часто повторяю себе: здесь всё нужно разрушить и заново создать народ».
Что же это такое «всё», что так хочется разрушить в России просвещённому европейскому маркизу? Если идти не от привычного идеологического понимания коммунизма, а от этимологии самого слова, то оно происходит от латинского communa (община), по-немецки Gemeinwesen. Классик немецкой социологии Фердинанд Тённис этим термином обозначал «естественную общность», то есть то же, что у Маркса «продолжение животных форм общности». Самая простая естественная форма человеческого общежития — это семья. Связи между членами семьи формируются естественно, человек не выбирает, от каких родителей родиться, и кто будет его братьями и сёстрами. С самого рождения человек в семье обладает неким минимумом прав, самое элементарное из которых — право на жизнь. С взрослением это минимум прав увеличивается, но он уравновешивается и определёнными обязанностями, возникающими тоже из самого факта принадлежности к семье.
По этому же «семейному» образцу строятся все другие семейные формы человеческого общежития: родовые общины, кланы, племена, монашеские ордена и даже преступные сообщества вроде итальянской мафии. Такие семейно-общинные межчеловеческие связи нельзя разорвать простым желанием одного человека.
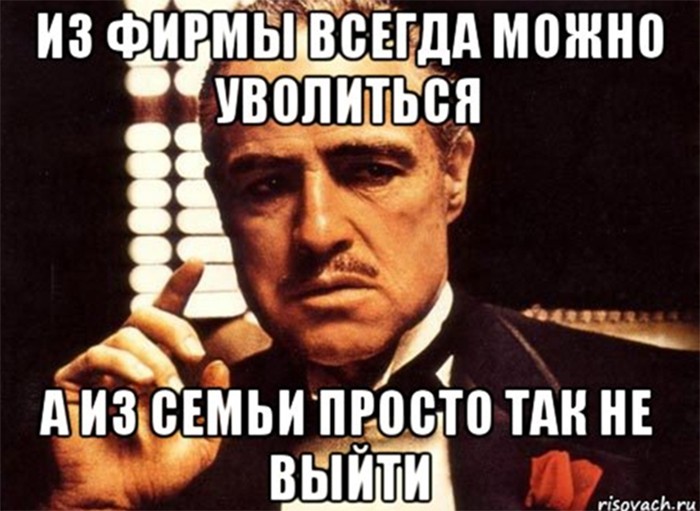
С точки зрения просвещённых европейцев все подобные связи «несвободны», так как они появляются не в результате «свободного выбора», а как бы сами собой, помимо желания отдельных людей. Значит, эти связи надо разрушить, чтобы люди оказались в состоянии «свободных атомов», когда у них нет по отношению друг к другу никаких прав и никаких обязанностей. Тогда и возникнут новые, уже свободные отношения, которые примут либо форму договора, если взаимодействуют равные по силе человеческие «атомы», либо форму силового подчинения слабого сильному. Только такие отношения и могут считаться «свободными» и «цивилизованными». То есть «гражданское (цивильное) общество» — это состояние “войны всех против всех», как его определял классик европейской философской мысли Томас Гоббс. Эта война может вводиться общественным договором в определённые рамки, принимая форму регулируемого законом рынка и честной конкуренции. А может и принимать форму ничем не ограниченной войны сильных против слабых. В ХХ веке для этого состояния гражданского общества в европейской цивилизации изобрели хорошо знакомый нам термин «тотальная война».
Именно это и имел в виду маркиз де Кюстин, когда мечтал в России «всё разрушить», чтобы «создать народ». Для маркиза русские, как живущие «полуживотными формами жизни, были не вполне людьми, поэтому и народом они не являлись. Чтобы сделать из этих «русских недочеловеков» настоящих людей, надо разорвать все квази-семейные (они же «естественные», «первобытные», «архаичные», «полуживотные») связи между ними, разрушить их общество-«семью» и пересобрать их в виде гражданского (цивильного) общества-“рынка”. Только тогда с европейской точки зрения можно будет назвать русских цивилизованными людьми.
Однако, как говорит польская пословица, «точка зрения зависит от точки сидения». Иначе говоря, жить семьёй или жить рынком — это дело вкуса. О вкусах не спорят. Но для русских это вопрос не абстрактного выбора, а вопрос выживания. Исторический опыт показывает, что рынок и выживание русских, как народа — вещи несовместимые. В том числе и в ситуациях, подобных теперешней, когда русские оказываются лицом к лицу с иноэтническими диаспорами, а государство эти межэтнические контакты регулирует, мягко говоря, не очень эффективно. Несложно увидеть, что иноэтнические диаспоры в России организованы именно по общинному типу: клановые и родоплеменные структуры у узбеков, таджиков, азербайджанцев до сих пор сильно развиты. И никакого «гражданского общества» у этих народов отродясь не бывало.
А в конфликтных ситуациях гражданское общество против общины имеет очень мало шансов. Возьмём хотя бы пример второй мировой войны, когда немцы, переформатированные нацизмом в «народную общину» (Volksgemeinschaft), разделали под орех почти все европейские гражданские нации. Французская нация сопротивлялась дольше всех — аж 42 дня. Поэтому в том, что самоорганизация русских при контактах с другими национальностями постсоветского пространства идёт по общинному типу, безусловно, есть своя логика. Однако, причин для особых восторгов в духе «Русская община придёт — порядок наведёт», я здесь не вижу. И вот почему.
Во-первых, если и дальше будет происходить уход государства от регулирования всей социальной сферы, и межнациональные отношения будут переходить в формат низовой самоорганизации, то, безусловно, это приведёт к деградации и архаизации всего российского общества. Оно уже состоялось, как современное, индустриальное, высокообразованное. Такое общество не может воспроизводиться на локальном общинном уровне. Большая индустрия и сопутствующие ей большие национальные институции — массового образования, науки, медицины, могут существовать только при поддержке и воспроизводства этих институций государством. Отказ государства от этой роли будет означать откат в доиндустриальную эпоху. А, уже состоявшись, как современное, высокоиндустриализированное и образованное общество, русский народ при такой деградации вряд ли сохранится. Высок риск того, что большой народ рассыпется на локальные общности типа племён.
На Украине этот процесс начался раньше, и зашёл дальше. Там ещё в 90-е в случае нужды разрулить конфликт с иноэтническими диаспорами обращались не в государственные правозащитные органы, а к парамилитарным структурам типа УНСО (запрещена на территории РФ). Их боевики могли подъехать, «разобраться», если какие-нибудь «чёрные» обижали украинского торгаша на базаре. Точно так же, как это сейчас делают боевики “Русской общины”. Обиженный, конечно, будет благодарен. Но радоваться здесь нечему: по сути это не что иное, как украинизация России.
Во-вторых, в отличие от 90-х, когда произошло катастрофическое ослабление государства, сегодняшнее государство слабостью не страдает. Если оно уклоняется от исполнения своих обязанностей перед своими гражданами, то не потому, что не может их исполнять, а потому, что не хочет. Оно ведь теперь не общенародное, как в советские времена, а классовое. Его задача — защищать интересы не всех граждан, а только правящего класса, прежде всего — верхушки этого класса — крупных капиталистических монополий.
Но, опять-таки, если государство отстраняется от нужд простого народа, это не значит, что оно пустит жизнь этого народа на самотёк и позволит межэтническим отношениям развиваться в формате «община с общиной». Напротив, правящий тандем капитала и государства будет вмешиваться в эти отношения, преследуя собственные (классовые) интересы. И если между собой этнические общины могут иметь дело более-менее на равных, то в отношениях с госкапиталистическим тандемом они будут заведомо слабее. И шансов не только защитить свои интересы, но даже и правильно определить, откуда исходит угроза этим интересам, у них будет мало.
Если мы посмотрим, откуда растут ноги у теперешней напряжённой ситуации в России с трудовыми мигрантами, которых почему-то назвали по-немецки «гастарбайтерами», то нетрудно заметить, что в советские времена ничего подобного не было. Советская власть не допускала ситуаций, чтобы массы разноэтничного и разнокультурного населения оказывались лицом к лицу на одной территории. Кроме прецедентов, когда два или более народов жили вперемешку традиционно, и на протяжении веков совместного проживания уже «притёрлись» друг к другу, как татары и русские в Татарстане, например. Но в целом советская национальная политика следовала негласному правилу: каждая национальность живёт на своей территории. Было понимание, что, несмотря на официальный лозунг «дружбы народов», массовый контакт разноэтничного населения создаёт взрывоопасную социальную обстановку.
Соблюдение этого негласного правила поддерживалось и институтом прописки, и развитием экономической специализации каждого региона. Такого явления, как безработица, в СССР не было, а значит, узбекам и таджикам не было смысла массово уезжать из родных кишлаков в поисках работы в Москву — работа у них была и дома.
Массовая трудовая миграция — порождение именно капитализма. Как писал выдающийся французский историк Фернан Бродель: «Капитализм вовсе не мог бы существовать без услужливой помощи чужого труда». Российским олигархам выгоднее привезти дешёвую рабсилу из Таджикистана или Узбекистана, чем платить дороже русскому работнику. Создаётся вдвойне нехорошая ситуация. Во-первых, конкуренция мигрантов с гражданами РФ на рынке труда сбивает цену на труд, то есть зарплаты падают и у местного населения. Во-вторых, неизбежно возникают конфликты, которые так или иначе приобретают национальную окраску, начинает «искрить» с обеих сторон. Возникает взрывоопасная ситуация, чреватая непредсказуемыми последствиями. Зато у олигархов растут прибыли.
Гастарбайтеры стремятся в Россию не от хорошей жизни, а ради куска хлеба. А зелёный свет трудовой миграции дают олигархи ради прибыли. Так кто же виноват в этой ситуации? Казалось бы, ответ очевиден. Казалось бы, вот он — общий враг, против которого надо объединяться и русским, и узбекам, и таджикам. Но слышали ли вы когда-нибудь от той самой «Русской общины» хоть слово против русских олигархов? Нет, здесь «Русская община» и рта раскрыть не смеет. Зато скопом «отметелить» какого-нибудь таджикского дворника — это они могут.
Впрочем, насчёт собственно «Русской общины» у меня никаких особых иллюзий и не было. А после того, как они окончательно «расчехлились» с выражением восторгов по поводу паскудной киноподелки «Мумия», все сомнения рассеялись окончательно: эта мутная контора не более, чем олигархическая прокладка.
Однако, дело здесь не в какой-то конкретной организации. Просто этот кейс показывает, как любую низовую общинную активность монополистический капитал переформатирует под себя. Национальные и религиозные общины будут сталкиваться лбами: русских натравят на узбеков, христиан — на мусульман, православных — на коммунистов. Недовольных и несогласных лидеров этих общин перекупят, запугают, затравят.
Был, правда, в нашей истории прецедент успешного сопротивления низовой общинной самоорганизации тандему капитала и государства — революция 1917 года. «Совет» от того же корня, что и «вече». Победившая в Октябре 1917 года власть советов — это власть общинных крестьянских сходов, продолжение древнерусской вечевой демократии. Сразу после взятия Зимнего большевики устами Ленина признали, что они не столько взяли власть, сколько признали власть крестьянских общин: «Советы крестьянских депутатов, в первую голову уездные, затем губернские являются отныне и впредь до Учредительного собрания полномочными органами государственной власти на местах».
Но между тогдашней ситуацией и современной есть несколько значительных отличий. Во-первых, тогда и капитал, и его государство были ослаблены участием в первой мировой войне. Теперешний капитал слабостью не страдает. Во-вторых, тогдашняя поземельная община была основой крестьянской жизни, естественным институтом, исторически сложившимся на протяжении веков. Этот образ жизни ушёл далеко в прошлое, а теперешние попытки возродить общинность делаются горожанами, давно утратившими навыки самоорганизации. В-третьих, революцию возглавила «партия нового типа» — организация профессиональных революционеров. Сама по себе вечевая демократия — власть крестьянских общин — несла в себе некоторый элемент, который условно можно назвать «анархическим». Недаром, тогдашние последователи Бакунина и Кропоткина с восторгом приняли советскую власть.
Сами крестьяне в массе своей, конечно, не были ни идейными анархистами, ни противниками государства. Но сам их жизненный уклад был таков, что они, в принципе, могли обойтись и без государства. Каждая деревня была самообеспечивавшимся экономическим организмом. А после того, как мужики массово дезертировали с фронтов первой мировой, да ещё и прихватив оружие, каждая деревня становилась ещё и самостоятельной военной единицей. Государство в этом раскладе могло мужикам показаться и лишним. Без некой силы, которая распространяла бы своё влияние на всю территорию бывшей империи Романовых, Россия могла рассыпаться на тысячи мелких крестьянских республик уездного и волостного масштаба.
Такой объединяющей силой и оказалась партия большевиков, спаянная полувоенной дисциплиной организация, чьи комитеты были в каждом уезде. По сути это было готовое, альтернативное государство, способное в час Х перенять власть. Так и произошло: большевики подхватили власть, выпавшую из ослабевших рук государства царского. Сегодня такой организации не видно. КПРФ, при всём к ней уважении, таковой не является.
Всё это оптимизма по поводу любых «русских общин» не добавляет. Хотя положение таково, что тяга народа к низовой самоорганизации, видимо, будет усиливаться.
Недостаток государственной активности обществу приходится как-то компенсировать, в том числе и своей, самого общества, самоорганизацией. Если государство не защищает граждан, гражданам приходится делать это самим. Уж сколько либералы ругали русских за «неспособность к самоорганизации», и вот русские такую способность вроде бы проявляют. Казалось бы, вот оно — вожделенное «гражданское общество», о необходимости которого столько говорила либеральная общественность. Казалось бы, надо радоваться. Но общественность опять недовольна. Телеканал «Дождь» привычно ноет про «русский нацизм».
Что же вызвало раздражение либералов? Может быть само слово «община»?
И правда, в начале ХХ века сохранявшийся тогда в России традиционный общинный уклад вся «прогрессивная» общественность дружно ругала и проклинала, как якобы главную причину «отсталости» русского крестьянства и его «рабской психологии». В этом были едины все тогдашние западники: и правые консерваторы-столыпинцы, и левые марксисты-меньшевики, и либералы-кадеты. Кумир тогдашних и сегодняшних западников, знаменитый немецкий социолог Макс Вебер называл «отсталое», по его мнению, мировоззрение русского крестьянства «архаическим аграрным коммунизмом».
При всём уважении к Максу Веберу, как светилу мировой науки, слово «архаический» он употребляет здесь отнюдь не в качестве научного термина: это просто бранный публицистический ярлык с русофобским подтекстом, и не более того. Ничего «архаического» в русской аграрной общине начала ХХ века не было.
Как доказано многочисленными исследованиями научной школы знаменитого советского историка Игоря Фроянова, основой жизненного уклада наших предков уже в эпоху Древней Руси были весьма развитые формы общинности, по аналогии с Древней Грецией названные И. Фрояновым «древнерусским полисом». Иначе этот древнерусский уклад Фроянов называл «общинность без первобытности», то есть без той самой «архаики». То есть, уже тысячу лет назад общинный уклад русских людей имел настолько развитые формы, что если в нём и сохранялись какие-то атавизмы архаики, их уже и тогда было крайне мало.
Тем более глупо было обзывать «архаическим» мировоззрение крестьян начала ХХ века. Значит дело здесь не в «архаике». Либералу Веберу и его адептам в психологии русского крестьянства не нравился именно коммунизм, а «архаический» они сюда приплели для красного словца.
И в этой неприязни к общинной психологии русского народа правые консерваторы и церковники были едины с либералами. Митрополит Филарет, например, возмущался тем, что «общественная» (читай, социалистическая) собственность служит «опорой раскола» (старообрядчества), скрываясь «под видом частной»:
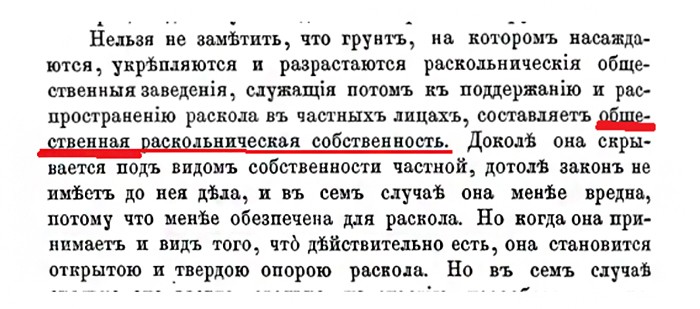
Мысли и предположения митрополита Филарета о средствах по уменьшению расколов. 1835 год // Собрание мнений и отзывов Филарета, митрополита Московского и Коломенского, по учебным и церковно-государственным вопросам, издаваемое под редакцией преосвященного Саввы, архиепископа Тверского и Кашинского. Т. 2. СПб., 1885. С.366.
Священник РПЦ Беллюстин, посетивший ремесленную артель в селе Тверской губернии, возмущался царившими там социалистическими порядками: «Тут нет ничего похожего на обыкновенные отношения между хозяином и его работником; речью заправляют, ничем и никем не стесняясь, наиболее начитанные, будь это хоть последние бедняки из целой артели; они же вершат и поднятый вопрос» Беллюстин И. Ещё о движениях в расколе // Русский вестник. 1865. — Т. 57. — С. 762.
Царский чиновник, правый консерватор и монархист Пётр Дурново считал главной опасностью для европеизированной элиты ту же социалистическую психологию русского народа: «Особенно благоприятную почву для социальных потрясений представляет, конечно, Россия, где народные массы, несомненно, исповедуют принципы бессознательного социализма… Крестьянин мечтает о даровом наделении его чужою землею, рабочий — о передаче ему всего капитала и прибылей фабриканта, и дальше этого их вожделения не идут. И стоит только широко кинуть эти лозунги в население, стоит только правительственной власти безвозбранно допустить агитацию в этом направлении, — Россия, несомненно, будет ввергнута в анархию, пережитую ею в приснопамятный период смуты 1905 — 1906 годов».
Однако и «коммунизм» здесь тоже упомянут, как идеологический ярлык, скорее уводящий от сути явления, чем проясняющий его. Первая ассоциация, возникающая при слове «коммунизм», это доктрина Маркса. Но марксисты в начале ХХ века относились к русской общине не менее негативно, чем либералы и правые. Этот негатив идёт ещё от дискуссий, которые вёл Маркс с Бакуниным, а потом и с русскими народниками. Маркс в довольно грубой форме высмеивал надежды Бакунина и народников, на русскую общину, как «мост к социализму». По Марксу любые формы общинности это, всего лишь, «продолжение животных форм общности». Социальный прогресс, по Марксу, возможен только через разрушение этих «полуживотных» атавизмов. То есть переход от первобытного коммунизма к рабству по Марксу был прогрессивным шагом от «полуживотного прозябания» к цивилизованному обществу.
И Маркс здесь не был оригинален. Его презрение к общинности происходит не из идеологии марксизма, а из обычной для просвещённого европейца русофобии. За несколько десятилетий до Маркса примерно то же самое о России писал маркиз Астольф де Кюстин: «Я часто повторяю себе: здесь всё нужно разрушить и заново создать народ».
Что же это такое «всё», что так хочется разрушить в России просвещённому европейскому маркизу? Если идти не от привычного идеологического понимания коммунизма, а от этимологии самого слова, то оно происходит от латинского communa (община), по-немецки Gemeinwesen. Классик немецкой социологии Фердинанд Тённис этим термином обозначал «естественную общность», то есть то же, что у Маркса «продолжение животных форм общности». Самая простая естественная форма человеческого общежития — это семья. Связи между членами семьи формируются естественно, человек не выбирает, от каких родителей родиться, и кто будет его братьями и сёстрами. С самого рождения человек в семье обладает неким минимумом прав, самое элементарное из которых — право на жизнь. С взрослением это минимум прав увеличивается, но он уравновешивается и определёнными обязанностями, возникающими тоже из самого факта принадлежности к семье.
По этому же «семейному» образцу строятся все другие семейные формы человеческого общежития: родовые общины, кланы, племена, монашеские ордена и даже преступные сообщества вроде итальянской мафии. Такие семейно-общинные межчеловеческие связи нельзя разорвать простым желанием одного человека.
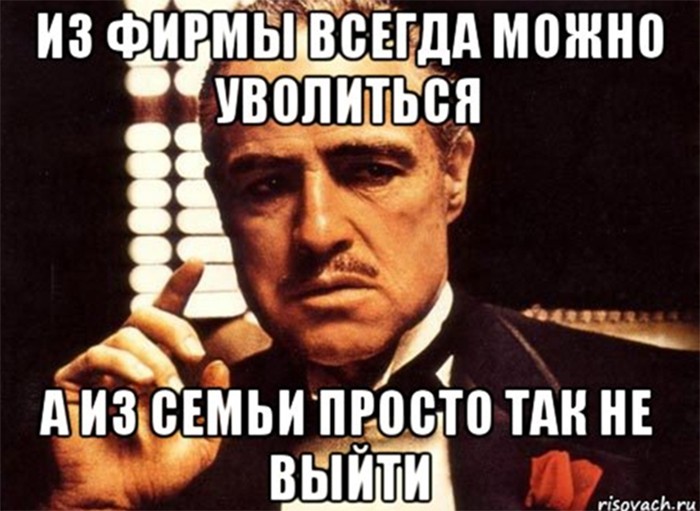
С точки зрения просвещённых европейцев все подобные связи «несвободны», так как они появляются не в результате «свободного выбора», а как бы сами собой, помимо желания отдельных людей. Значит, эти связи надо разрушить, чтобы люди оказались в состоянии «свободных атомов», когда у них нет по отношению друг к другу никаких прав и никаких обязанностей. Тогда и возникнут новые, уже свободные отношения, которые примут либо форму договора, если взаимодействуют равные по силе человеческие «атомы», либо форму силового подчинения слабого сильному. Только такие отношения и могут считаться «свободными» и «цивилизованными». То есть «гражданское (цивильное) общество» — это состояние “войны всех против всех», как его определял классик европейской философской мысли Томас Гоббс. Эта война может вводиться общественным договором в определённые рамки, принимая форму регулируемого законом рынка и честной конкуренции. А может и принимать форму ничем не ограниченной войны сильных против слабых. В ХХ веке для этого состояния гражданского общества в европейской цивилизации изобрели хорошо знакомый нам термин «тотальная война».
Именно это и имел в виду маркиз де Кюстин, когда мечтал в России «всё разрушить», чтобы «создать народ». Для маркиза русские, как живущие «полуживотными формами жизни, были не вполне людьми, поэтому и народом они не являлись. Чтобы сделать из этих «русских недочеловеков» настоящих людей, надо разорвать все квази-семейные (они же «естественные», «первобытные», «архаичные», «полуживотные») связи между ними, разрушить их общество-«семью» и пересобрать их в виде гражданского (цивильного) общества-“рынка”. Только тогда с европейской точки зрения можно будет назвать русских цивилизованными людьми.
Однако, как говорит польская пословица, «точка зрения зависит от точки сидения». Иначе говоря, жить семьёй или жить рынком — это дело вкуса. О вкусах не спорят. Но для русских это вопрос не абстрактного выбора, а вопрос выживания. Исторический опыт показывает, что рынок и выживание русских, как народа — вещи несовместимые. В том числе и в ситуациях, подобных теперешней, когда русские оказываются лицом к лицу с иноэтническими диаспорами, а государство эти межэтнические контакты регулирует, мягко говоря, не очень эффективно. Несложно увидеть, что иноэтнические диаспоры в России организованы именно по общинному типу: клановые и родоплеменные структуры у узбеков, таджиков, азербайджанцев до сих пор сильно развиты. И никакого «гражданского общества» у этих народов отродясь не бывало.
А в конфликтных ситуациях гражданское общество против общины имеет очень мало шансов. Возьмём хотя бы пример второй мировой войны, когда немцы, переформатированные нацизмом в «народную общину» (Volksgemeinschaft), разделали под орех почти все европейские гражданские нации. Французская нация сопротивлялась дольше всех — аж 42 дня. Поэтому в том, что самоорганизация русских при контактах с другими национальностями постсоветского пространства идёт по общинному типу, безусловно, есть своя логика. Однако, причин для особых восторгов в духе «Русская община придёт — порядок наведёт», я здесь не вижу. И вот почему.
Во-первых, если и дальше будет происходить уход государства от регулирования всей социальной сферы, и межнациональные отношения будут переходить в формат низовой самоорганизации, то, безусловно, это приведёт к деградации и архаизации всего российского общества. Оно уже состоялось, как современное, индустриальное, высокообразованное. Такое общество не может воспроизводиться на локальном общинном уровне. Большая индустрия и сопутствующие ей большие национальные институции — массового образования, науки, медицины, могут существовать только при поддержке и воспроизводства этих институций государством. Отказ государства от этой роли будет означать откат в доиндустриальную эпоху. А, уже состоявшись, как современное, высокоиндустриализированное и образованное общество, русский народ при такой деградации вряд ли сохранится. Высок риск того, что большой народ рассыпется на локальные общности типа племён.
На Украине этот процесс начался раньше, и зашёл дальше. Там ещё в 90-е в случае нужды разрулить конфликт с иноэтническими диаспорами обращались не в государственные правозащитные органы, а к парамилитарным структурам типа УНСО (запрещена на территории РФ). Их боевики могли подъехать, «разобраться», если какие-нибудь «чёрные» обижали украинского торгаша на базаре. Точно так же, как это сейчас делают боевики “Русской общины”. Обиженный, конечно, будет благодарен. Но радоваться здесь нечему: по сути это не что иное, как украинизация России.
Во-вторых, в отличие от 90-х, когда произошло катастрофическое ослабление государства, сегодняшнее государство слабостью не страдает. Если оно уклоняется от исполнения своих обязанностей перед своими гражданами, то не потому, что не может их исполнять, а потому, что не хочет. Оно ведь теперь не общенародное, как в советские времена, а классовое. Его задача — защищать интересы не всех граждан, а только правящего класса, прежде всего — верхушки этого класса — крупных капиталистических монополий.
Но, опять-таки, если государство отстраняется от нужд простого народа, это не значит, что оно пустит жизнь этого народа на самотёк и позволит межэтническим отношениям развиваться в формате «община с общиной». Напротив, правящий тандем капитала и государства будет вмешиваться в эти отношения, преследуя собственные (классовые) интересы. И если между собой этнические общины могут иметь дело более-менее на равных, то в отношениях с госкапиталистическим тандемом они будут заведомо слабее. И шансов не только защитить свои интересы, но даже и правильно определить, откуда исходит угроза этим интересам, у них будет мало.
Если мы посмотрим, откуда растут ноги у теперешней напряжённой ситуации в России с трудовыми мигрантами, которых почему-то назвали по-немецки «гастарбайтерами», то нетрудно заметить, что в советские времена ничего подобного не было. Советская власть не допускала ситуаций, чтобы массы разноэтничного и разнокультурного населения оказывались лицом к лицу на одной территории. Кроме прецедентов, когда два или более народов жили вперемешку традиционно, и на протяжении веков совместного проживания уже «притёрлись» друг к другу, как татары и русские в Татарстане, например. Но в целом советская национальная политика следовала негласному правилу: каждая национальность живёт на своей территории. Было понимание, что, несмотря на официальный лозунг «дружбы народов», массовый контакт разноэтничного населения создаёт взрывоопасную социальную обстановку.
Соблюдение этого негласного правила поддерживалось и институтом прописки, и развитием экономической специализации каждого региона. Такого явления, как безработица, в СССР не было, а значит, узбекам и таджикам не было смысла массово уезжать из родных кишлаков в поисках работы в Москву — работа у них была и дома.
Массовая трудовая миграция — порождение именно капитализма. Как писал выдающийся французский историк Фернан Бродель: «Капитализм вовсе не мог бы существовать без услужливой помощи чужого труда». Российским олигархам выгоднее привезти дешёвую рабсилу из Таджикистана или Узбекистана, чем платить дороже русскому работнику. Создаётся вдвойне нехорошая ситуация. Во-первых, конкуренция мигрантов с гражданами РФ на рынке труда сбивает цену на труд, то есть зарплаты падают и у местного населения. Во-вторых, неизбежно возникают конфликты, которые так или иначе приобретают национальную окраску, начинает «искрить» с обеих сторон. Возникает взрывоопасная ситуация, чреватая непредсказуемыми последствиями. Зато у олигархов растут прибыли.
Гастарбайтеры стремятся в Россию не от хорошей жизни, а ради куска хлеба. А зелёный свет трудовой миграции дают олигархи ради прибыли. Так кто же виноват в этой ситуации? Казалось бы, ответ очевиден. Казалось бы, вот он — общий враг, против которого надо объединяться и русским, и узбекам, и таджикам. Но слышали ли вы когда-нибудь от той самой «Русской общины» хоть слово против русских олигархов? Нет, здесь «Русская община» и рта раскрыть не смеет. Зато скопом «отметелить» какого-нибудь таджикского дворника — это они могут.
Впрочем, насчёт собственно «Русской общины» у меня никаких особых иллюзий и не было. А после того, как они окончательно «расчехлились» с выражением восторгов по поводу паскудной киноподелки «Мумия», все сомнения рассеялись окончательно: эта мутная контора не более, чем олигархическая прокладка.
Однако, дело здесь не в какой-то конкретной организации. Просто этот кейс показывает, как любую низовую общинную активность монополистический капитал переформатирует под себя. Национальные и религиозные общины будут сталкиваться лбами: русских натравят на узбеков, христиан — на мусульман, православных — на коммунистов. Недовольных и несогласных лидеров этих общин перекупят, запугают, затравят.
Был, правда, в нашей истории прецедент успешного сопротивления низовой общинной самоорганизации тандему капитала и государства — революция 1917 года. «Совет» от того же корня, что и «вече». Победившая в Октябре 1917 года власть советов — это власть общинных крестьянских сходов, продолжение древнерусской вечевой демократии. Сразу после взятия Зимнего большевики устами Ленина признали, что они не столько взяли власть, сколько признали власть крестьянских общин: «Советы крестьянских депутатов, в первую голову уездные, затем губернские являются отныне и впредь до Учредительного собрания полномочными органами государственной власти на местах».
Но между тогдашней ситуацией и современной есть несколько значительных отличий. Во-первых, тогда и капитал, и его государство были ослаблены участием в первой мировой войне. Теперешний капитал слабостью не страдает. Во-вторых, тогдашняя поземельная община была основой крестьянской жизни, естественным институтом, исторически сложившимся на протяжении веков. Этот образ жизни ушёл далеко в прошлое, а теперешние попытки возродить общинность делаются горожанами, давно утратившими навыки самоорганизации. В-третьих, революцию возглавила «партия нового типа» — организация профессиональных революционеров. Сама по себе вечевая демократия — власть крестьянских общин — несла в себе некоторый элемент, который условно можно назвать «анархическим». Недаром, тогдашние последователи Бакунина и Кропоткина с восторгом приняли советскую власть.
Сами крестьяне в массе своей, конечно, не были ни идейными анархистами, ни противниками государства. Но сам их жизненный уклад был таков, что они, в принципе, могли обойтись и без государства. Каждая деревня была самообеспечивавшимся экономическим организмом. А после того, как мужики массово дезертировали с фронтов первой мировой, да ещё и прихватив оружие, каждая деревня становилась ещё и самостоятельной военной единицей. Государство в этом раскладе могло мужикам показаться и лишним. Без некой силы, которая распространяла бы своё влияние на всю территорию бывшей империи Романовых, Россия могла рассыпаться на тысячи мелких крестьянских республик уездного и волостного масштаба.
Такой объединяющей силой и оказалась партия большевиков, спаянная полувоенной дисциплиной организация, чьи комитеты были в каждом уезде. По сути это было готовое, альтернативное государство, способное в час Х перенять власть. Так и произошло: большевики подхватили власть, выпавшую из ослабевших рук государства царского. Сегодня такой организации не видно. КПРФ, при всём к ней уважении, таковой не является.
Всё это оптимизма по поводу любых «русских общин» не добавляет. Хотя положение таково, что тяга народа к низовой самоорганизации, видимо, будет усиливаться.
Дискуссия
Еще по теме
Еще по теме


Сергей Васильев
Бизнесмен, кризисный управляющий
Кто заказывал социализм? Заказ получать будете?


Ольга Шапаровская
Философ, косметолог
ПРОСТИТЕ НАС …


Сергей Рижский
Отто фон Бисмарк
немецкий государственный и политический деятель, первый канцлер Германской империи


Юрий Иванович Кутырев
Неравнодушный человек, сохранивший память и совесть.
"Оказался наш Отец не Отцом, а сукою..."
Поэма о Сталине. А.Галич




