ЭКОНОМИКА
22.12.2020


Артём Бузинный
Магистр гуманитарных наук
“Неудобный класс” в отечественной перспективе

-
Участники дискуссии:
510 -
Последняя реплика:
больше месяца назад
Крестьянин и Мироед
Эти же изменения в экономическом базисе создают благоприятные условия для появления иного, во многом противоположного “Крестьянину” культурно-исторического типа, видящего внешний мир бесконечным и лишённым субьектности, иными словами, как мёртвую и безличную внешнюю среду – источник потребительских ресурсов и объект приложения своей воли. Никакого собственного смысла, никакой ценности и тем более, своей воли, внешний мир в этой оптике не имеет. Значение любых его объектов определяется только потребительски, через экономическую категорию «цены», выраженную рационально в виде цифры.
Эпоху возвышения на Западе этого нового культурно-исторического типа Оскар Уайльд охарактеризовал так:
«В наше время люди всему знают цену, но понятия не имеют о подлинной ценности».
Весь мир в этой оптике приобретает рационально-цифровой вид. Единственной иррациональной и абсолютной ценностью остаётся индивид, помещённый внутрь обесцененной и мёртвой «окружающей среды». В отличие от крестьянского мировосприятия с его витализмом, персонализмом, преобладанием творчества над потреблением, этики над экономикой, коллектива над индивидом, иррационализма над рациональностью, веры над наукой, идущая на смену крестьянской культурная оптика характеризуется механицизмом, волюнтаризмом, обезличенностью, потребительством, преобладанием экономики над этикой, науки над верой, индивида над коллективом. Единственной абсолютной и иррациональной ценностью, единственными субъектом, единственной обладающей волей личностью в этой оптике остаётся индивид, помещённый внутрь мёртвой, обесцененной и обезличенной «окружающей среды». Или даже скорее стоящий вне этой среды и как бы «над ней».
Такое мировосприятие формирует определённый образ мышления, способ взаимоотношений с внешней средой и тип организации общества. Природа уже не Мать, а “окружающая среда”, Космос не Дом, а пустое пространство, животные не “братья наши меньшие”, а источник калорий и витаминов, корова Милка – не член крестьянской семьи, а безымянное энное количество литров молока и килограммов мяса.
Задачи общества в этой перспективе тоже меняются. С одной стороны они вроде бы те же, что и у общества патриархального: защита жизни и свободы. Но появляется существенный нюанс, коренным образом меняющий всю картину: это жизнь и свобода индивида. В идеале и в обществе себе подобных он желал бы не нуждаться. Самый лучший вариант, когда кроме него никаких других индивидов не существует, любая внешняя субъектность подавлена и весь человеческий ресурс можно использовать на своё жизнеобеспечение. Индивидуалистический социальный идеал это абсолютный тоталитаризм и абсолютное рабство.
Реальность конечно этот идеал корректирует. Когда вокруг существуют такие же индивиды, также способные подчинить твою волю и поработить, то рациональнее будет договориться с ними о взаимном ограничении аппетитов. Такой договор между индивидами-эгоистами основан на обоюдной способности его участников нанести друг другу существенный или равный ущерб, то есть на взаимном страхе. С теми же, кто значительный ущерб нанести не способен, смысла договариваться нет, их рациональнее подавлять и эксплуатировать. Это другая причина для объединения индивидов в общество: объединившись, сильным удобнее покорять и эксплуатировать слабых. С этого момента и возникает антипод традиционного крестьянского общества – общество гражданское. Им движут два главных мотива: страх и выгода, а не братская любовь и доверие. Оно защищает жизнь и свободу своих граждан, но делает это за счёт отнятия жизни и свободы тех, кто в число граждан не попал. В отличие от патриархального общества, обеспечивающего права своих членов только за счёт своих внутренних ресурсов и собственных усилий.
Это уже отнюдь не «общество лицом к лицу», не тёплый круг ближних. Здесь смотрят друг на друга с такого расстояния, на котором лиц не видно. Отчужденный взгляд на общество воспринимает его, как машину, а отдельных индивидов, как детали механизма, а не личности. Детали ценности не имеют, их легко заменить другими. Поэтому члены гражданского общества имеют формальные права, вроде свободы слова, но реальных прав – на труд, на образование, на безопасность – то есть всё, что и составляет право на жизнь в самом широком смысле, им никто не гарантирует.
Хозяйственная деятельность в таком обществе направлена не на его жизнеобеспечение, а на прибыль отдельных индивидов. Это уже не семейная экономика, а рынок, экономика прибыли. Если в патриархальной семейной экономике сектор рыночных отношений весьма невелик, и ограничен товарным обменом продуктами личного труда, то экономика прибыли стремится превратить в товар то, что в семейной экономике товаром быть не может: природные ресурсы, труд и деньги.
Рыночный обмен всегда эквивалентен только у Адама Смита. В реальности он далеко не всегда таков. Пока рыночные отношения существуют лишь в виде узкого сектора внутри патриархальной экономики, они сохраняют эквивалентность, так как обмениваются только продуктами труда – труд на труд. Но как только начинают присваиваться природные ресурсы и капитал, то есть общая “вотчина” поступает на рынок, эквивалентность обмена нарушается, так как владельцы ресурсов, капитала и денег имеют явное преимущество перед теми, кто владеет лишь своими рабочими руками. Они оказываются заранее в неравном положении в конкурентной борьбе. Конкуренция из простого соперничества, всегда присущего человеку, переключается в режим борьбы за существование, так как для лишившихся в этом процессе доступа к элементарным средствам жизнеобеспечения под вопросом оказывается их выживание даже в самом примитивном биологическом смысле. Потерявший берега рынок доводит принцип обмена до абсурда: право первородства можно обменять на чечевичную похлёбку, а дедовскую землю на меру зерна в неурожайный год. Рынок ведёт к имущественной поляризации: богатые богатеют, бедные беднеют. В итоге этого процесса все средства жизнеобеспечения, вся бывшая вотчина-жизнь концентрируется на одном общественном полюсе. Другой полюс общества оказывается этих средств лишён.
В отношении этого другого появляются две опции: можно присваивать их труд, а можно и предоставить их самим себе – или выживут или умрут. Так что рыночная поляризация образует в итоге не два, а три социальных полюса: эксплуататоры, эксплуатируемые и те, кого нет смысла эксплуатировать. Рынок обязательно производит отверженных: нищих, люмпен-пролетариат, бомжей и другие виды социальных париев. В семейной экономике их появление невозможно: в качестве самой нижней социальной позиции она знает так называемое патриархальное рабство, но такой домашний работник не был парией, он всё равно оставался членом семьи.
Непонимание разницы между крестьянской и гражданской экономическими моделями приводит к курьёзам. Например в конце 19 века марксистские и либеральные экономисты, воспитанные на чистом сливочном масле и Адаме Смите, не видели в России ничего, кроме рынка. Эта публика с энтуазиазмом восприняла работу молодого Ленина «Развитие капитализма в России», в которой имущественное расслоение в деревне было подано, как симптом приближающегося распада «отживающего свой век архаичного сословия» на буржуа и пролетариев, и скорого превращения России в «нормальную европейскую страну».
Но экономисты-народники, проследив имущественное состояние крестьянских хозяйств в динамике, обнаружили, что имущественная мобильность крестьян происходила отнюдь не линейно, как ожидали марксисты и либералы, а циклично. Богатство крестьянской семьи не являлось трамплином к ещё большему богатству: в следующем поколении от него не остаётся и следа. Дети богатых родителей не наследовали их земли, так же и дети бедняков не наследовали их бедности. При новом земельном переделе каждый получал в общем порядке свой земельный участок. Богатство и бедность оказывались в социальном смысле временными, преходящими явлениями. В каждом новом поколении происходило выравнивание. Обнищания не наступало. Крестьянская община оказывалась щитом против пролетаризации России. В “передовых” же странах Запада, где рыночные отношения успели пустить глубокие корни и в деревне, старший сын в крестьянской семье наследовал всё отцовское хозяйство – право майората: «одному всё, остальным ничего». А младшим ничего не оставалось, кроме как наниматься в батраки, или пополнять число городских пролетариев. А если не повезёт, то число городских люмпенов.
То есть рыночные отношения в гражданском обществе не ограничиваются одной экономикой, но пронизывают собой всё общество. Выражаясь несколько метафорически это общество-рынок в противоположность обществу-семье. Семья озабочена прежде всего сохранением единства: пусть каждый получит хотя бы понемногу от общего наследства. Рынок же ставит во главу угла индивидуальный успех: пусть победитель в конкурентной борьбе получит всё и желательно задаром, а остальные выплывают, как умеют.
Весьма показательную иллюстрацию в этом смысле приводит социолог и историк крестьянства Теодор Шанин.
Россия. ХІХ век. Петербургский юрист едет в деревню собирать материалы для изучения крестьянского общинного права. Он присутствует на слушании дела о споре за земельный участок. Общинный суд постановляет: этот прав, этот неправ, правому – 2/3 земли, неправому – 1/3 земли. Столичный юрист шокирован «несправедливым» решением «тёмных мужиков»: как же так, победитель должен получить всё. Мужики терпеливо объясняют заезжему гостю, что тяжущиеся – соседи, им и дальше жить рядом: нельзя решать дело так, чтобы у одного из них, пусть он и неправ, остался некий неприятный осадок.
Это взаимное непонимание идёт от двух принципиально разных правосознаний. Европейское, представленное петербургским юристом, видит в любом социальном конфликте борьбу правого и виноватого, дело суда – помочь правому одержать победу над неправым. А что после этой победы будет с обществом – неважно, главное – «торжество правосудия» (justitia). Как говаривал германский император Фердинанд I: «Fiat justitia et pereat mundus» (да свершится правосудие, хотя бы из-за этого погиб весь мир). Для правосознания же русского крестьянства главной целью суда представлялось – погасить конфликт, восстановить социальный мир. То есть ради сохранения единства патриархальное общество готово пожертвовать многим, в том числе и формальной справедливостью. Достоевский выразил это так: «если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной».

В языке русских крестьян существовали понятия “кулак” и “мироед”, ёмко определявшие суть того, кто перестал быть Крестьянином, и, выйдя за пределы мира-общины, не прервал с ним все связи, но стал на нём паразитировать. Этот паразитический с крестьянской точки зрения человеческий тип, составляющий антропологическую основу общества-рынка, называют по-разному: буржуа, бюргером, олигархом, мещанином, плутократом, торгашом. Но все эти названия не исчерпывают его сути. Гораздо более ему соответствует русское слово мироед, под которое подходит не только кулак или городской буржуй, но феодальный сеньор, и американский рабовладелец, и русский барин-крепостник.
Конкуренцию из обычного соперничества, присущего любому человеческому обществу, свободный рынок переключает в режим борьбы за существование, так как для лишившихся в этом процессе доступа к элементарным средствам жизнеобеспечения под вопросом оказывается их выживание даже в самом примитивном биологическом смысле. Борьба за существование оказывается фундаментальной категорией рыночного мироедского сознания, так как ему кажется естественным и само собой разумеющимся, что индивиды должны стремиться к выживанию за счёт друг друга, к угнетению и порабощению себе подобных.
Томас Гоббс оформил эту глубинную интуицию индивидуалистической психики в концепцию человека в естественном состоянии, находящемся в перманентном режиме войны всех со всеми. Люди по Гоббсу объединяются в общество лишь для того, чтобы ввести эту борьбу хоть в какие-то рамки, перевести её из режима горячей войны в режим войны холодной.
Дарвинизм спроецировал этот концепт на природу, в которой якобы тоже идёт непримиримая борьба между видами за выживание. То есть индивидуалистическое сознание и природу воспринимает по образу и подобию буржуазного общества-рынка.
Этот образ обуржуазенной природы в свою очередь был социал-дарвинистами снова спроецирован на человеческое общество, которое по их мнению не может не находиться в состоянии конкуренции, то есть холодной гражданской войны. Впрочем, социал-дарвинистский взгляд делит людей на тех, кто возвысился до создания гражданского общества, и тех, кто продолжает находиться в естественном состоянии, то есть в цивильное общество не входит, не принадлежит к цивилизации, а остаётся частью природы, не являясь с точки зрения социал-дарвинистов человеком. Внутренняя логика буржуазно-индивидуалистического мировосприятия неизбежно приводит к расистскому делению людей на избранных и недочеловеков. Вполне понятно, что в отношении этих последних считается нормальной не только холодная, но и вполне горячая война, не ограниченная никакими моральными рамками, «война всех против всех», возвращающая всех своих участников в пресловутое «естественное состояние».
Причём здесь надо понимать, что «естественность» эта принадлежит не природе, не биологии, а культуре. Расизм – естественное свойство не человека, как хомо сапиенс, а именно и только определённого типа сознания, сформированного специфической культурой. Человеку патриархального общества, Крестьянину, расизм совершенно чужд. Как писал известный лорд Керзон:
«Россия бесспорно обладает замечательным даром добиваться верности и даже дружбы тех, кого она подчинила силой. Русский братается в полном смысле слова. Он совершенно свободен от того преднамеренного вида превосходства и мрачного высокомерия, который в большей степени воспламеняет злобу, чем сама жестокость. Он не уклоняется от социального и семейного общения с чуждыми и низшими расами. Его непобедимая беззаботность делает для него лёгкой позицию невмешательства в чужие дела и терпимость, с которой он смотрит на религиозные обряды, общественные обычаи и местные предрассудки своих азиатских собратьев в меньшей степени итог дипломатического расчета, нежели плод врожденной беспечности».
Хотя семейная экономика видимо более древняя, но и рыночная экономика имеет давнюю историю. Она была хорошо известна и в античности. Уже тогда различали два типа ведение хозяйства: ради жизнеобеспечения и ради прибыли, которые Аристотель называл соответственно экономия (οἰκονομία — “ведение домашнего хозяйства”) и хрематистика (χρηματιστική — “обогащение”). Но во все времена товарный сектор был невелик: по словам Карла Маркса «Торговые народы древнего мира существовали, как боги Эпикура в межмировых пространствах, или, вернее, как евреи в порах польского общества».
И хотя популярное представление связывает эпоху капитализма с победным шествием рынка по планете, но по исследованиям Фернана Броделя и в современной экономике лишь сравнительно небольшая её доля регулируется рынком. Основная же часть хозяйственных отношений – то, что Бродель называл “материальной жизнью” – продолжает протекать без рыночного обмена в нерыночных условиях. В классической политэкономии это называется “натуральным хозяйством”, то есть то, что для Аристотеля было просто “экономией”, а для Теодора Шанина – “семейной экономикой”. По Броделю рынок без питания соками материальной жизни существовать не может, как волки не могут существовать без овец.
Рынок не может стать всеобщим хозяйственным укладом, это всегда экономика меньшинства. Но для этого привилегированного меньшинства рынок обеспечивает гораздо более высокий уровень благополучия, что наряду с процессом виртуализации труда, является фактором, благоприятствующим изменению мировосприятия от традиционного патриархально-крестьянского к современному гражданско-буржуазному.
Как правило, социальное ядро буржуазного культурно-исторического типа составляют общественные слои, в наибольшей степени испытывающие влияние обоих этих факторов. В пореформенной России это были богатевшие на экспорте сырья и зерна торгово-промышленные слои и обслуживающая их интеллектуальная элита. Но высокие жизненные стандарты, обеспечиваемые рынком, делают его привлекательным даже для тех, кто объективно не могут стать его частью. Для большинства, погружённого в «материальную жизнь», рынок оказывается соблазном, миражом, который никогда не станет реальностью. Хотя этот мираж обладает вполне реальной силой, разрушительной по отношению традиционному патриархальному сознанию, вокруг которого и формируется культурно-исторический тип “Крестьянин”. Социальная база культурно-исторического типа “Мироеда” оказывается более широкой, чем непосредственно втянутые в процессы маркетизации и виртуализации социальные слои.

От “Крестьянина” к “Советскому Человеку”
К 1917 году эта социальная база оказалась настолько широка, что на стороне белого проекта перестройки России в гражданскую нацию оказалось немало крестьян и даже большинство казаков. Но для победы в гражданской войне эта база оказалась явно недостаточна, и проект белых потерпел поражение даже при опоре на иностранных интервентов. По словам Михаила Пришвина после окончания гражданской войны «утвердилась власть тёмного русского народа по правилам царского режима. Нового ничего не вышло».
“Тёмный русский народ” не только сохранил культурную гегемонию, но и захватил политическую власть. И это произошло не только у нас. Русский Октябрь оказался первым в цепочке антибуржуазных крестьянских революций, во многом определивших историческое лицо ХХ века. За примером России последовали Монголия, Китай, Вьетнам, Корея, Куба, Ангола и другие крестьянские страны.
Но для удержания гегемонии русскому крестьянину пришлось измениться, пройдя через ломку коллективизации и индустриализации. Он не только должен был овладеть современной техникой и освоить городское пространство, но и преодолеть локализм своего мышления, расширить своё мировосприятие с локального до имперского, раздвинуть рамки семейной экономики с привычных масштабов своего хутора до народного хозяйства всей страны, а потом и всего социалистического блока. Такой модернизированный урбанизированный крестьянин, получивший городское образование вчерашний выходец из села и стал опорой советского проекта, тем «советским человеком», который и определил социальный и культурный облик новой красной России. Культурно-исторический тип “Мироед” на какое-то время ушёл в тень. В этом сыграло свою роль не только его поражение в гражданской войне и так называемый «Большой террор» 30-х годов, но и значительное ослабление его экономического базиса: сокращение доли рынка и частной собственности. Да и сами более чем суровые материальные условия, в которых существовало советское общество вплоть до конца 1940-х годов, способствовали поддержанию и воспроизведению в общественном сознании именно патерналистско-солидаристских установок, а не индивидуалистических.
Третий фактор, определивший доминирование культурно-исторического типа “Крестьянина”, уже в обновлённой ипостаси Советского Человека, это целенаправленная работа с культурно-ценностным ядром общества, которую вела большевистская власть. Советская идеология, наука, пропаганда целенаправленно культивировали солидаристские и патерналистские установки, традиционные для общественного сознания России.
Дискуссия
Еще по теме
Еще по теме


Юрий Иванович Кутырев
Неравнодушный человек, сохранивший память и совесть.
ЛАТВИЯ ТРЕБУЕТ 800 МИЛЛИАРДОВ ЗА ПРОШЛОЕ
А что она сделала для будущего?

Михаил Елин
ВЫСТРЕЛ В НОГУ
Новыми пошлинами
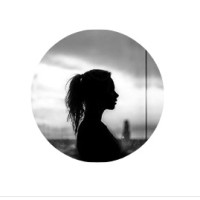

Любовь Безродная
Журналист Baltnews
ЕВРОПА ЗАКУПАЕТ УДОБРЕНИЯ В РОССИИ
Сменили одну зависимость на другую


Петр Петровский
Философ, историк идей
ТОВАРИЩ СИ НА НОВОМ СРОКЕ
Каковы итоги съезда КПК для Беларуси?



